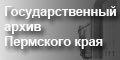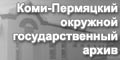Посреди России
К юбилею народного художника СССР Евгения Николаевича Широкова
...Над озером ходит гроза. Там, над дальним берегом, небо уже наливается лиловой мглой, и вода набирает тревожной тьмы, от которой сразу становится не по себе. Молодая женщина полощет белье и, полуразогнувшись уже утомленной спиной, взглядывает на тот край: успеет ли закончить? А во дворе еще светло от солнца, и старый человек читает у только сложенной поленницы «Советскую Россию», прижав одной рукой ее пошевеливающийся под ветром край, а другой – бессознательно ограждая бесштанного внука. Мальчик, чуя защиту, смотрит из дедовых колен спокойно и прямо, как всегда глядят дети.
Никто, кроме мальчика, нас не видит, и можно долго стоять так и смотреть на этот светлый двор, на пытливого человека, который читает газету с каким-то отчетливым вопросом, требовательной настойчивостью, с какой спрашивают бескомпромиссного ответа, на женщину там, за воротами, на мостках, на темное небо, обещающее грозу.
Какой покойный, устойчивый обыденный мир! Но отчего же при этом смущается душа? Отчего как-то кажутся связаны и газета, и темное небо, и этот огражденный дедовой рукой мальчик, словно довлеет над этим днем то ли тень воспоминания, то ли неуверенный вопрос к будущему, и устойчивость не так неколебима, как представляется с первого взгляда?
Этот холст, когда я его видел в мастерской народного художника РСФСР Евгения Николаевича Широкова, был прописан только наполовину и, видно, уже давно стоял лицом к стене. В нем как будто все было решено, оставалось именно прописывать, «урабатывать», как говорит сам художник, но душевное состояние ушло, и теперь надо было дожидаться его возвращения. Когда придет это состояние, художник не знал, но по тому, как он смотрел на работу, как цепко оглядывал детали, можно было догадаться, что холст скоро снова встанет на мольберт.
…Но я начинаю разговор о пермском живописце Широкове именно с этой неоконченной в техническом смысле работы не из лабораторных соображений, а более всего потому, что в этом холсте (у него уже было и имя – он назывался «Посреди России») отчетливо сошлись все «темы», которые занимали художника на протяжении всего предшествующего творчества и вот сейчас ощущали потребность в обобщении.
…Из самой середины России художник пишет саму эту середину в будний ее час, и время растет на холсте, и наполняется жизнью и далью, и оказывается так значитель- но, что вот даже иногда надо поворачивать холст к стене и ждать, пока утомленная мысль опять станет мощно полнокровна и серьезно значительна, чтобы всякий, кто будет потом смотреть эту картину, увидел в ней не только свой родительский кров, не одну свою малую родину, но все строгое ненаглядное Отечество.
< … >
Я ставлю их рядом, вернее, поворачиваю друг к другу лицом – «Автопортрет» 1983 года и картину «Посреди России» – и долго смотрю, как бесконечно они отражают друг друга, словно тревожные зеркала. Мне легко поставить между ними и все лучшие холсты Широкова, написанные им за 25 лет творческой работы, и лица его героев вполне объяснят, как складывалась и оформлялась требовательная мысль художника.
Лучший урок этих – полных работы – лет был для Широкова в том, что он от холста к холсту вернее понимал и все наше время, и самого себя.
Художник много сказал в своих портретах обо всех нас, но много и искренне он сказал и о себе как нашем современнике. И если мы временами чувствуем за его портретами как будто не окончательную полноту свидетельствования, то это происходит не оттого, что он что-то утаил или недосмотрел, а оттого, что он останавливался в молчании там, где речь еще преждевременна, где осознание еще не полно, но где оно живо растет и оформляется. Мы все время чувствуем этого главного героя всех портретов – растущую душу художника, и именно она-то и придает работам Е. Н. Широкова такую трепещущую живую интимность, несмотря на большие размеры холстов и как будто слишком сдержанный колорит. Своими портретами он увеличивает наши общие силы, непонятным образом пробуждая и в нас потаенные, часто забываемые стороны духа, с которыми мы сильнее и увереннее можем противостоять довольству, унынию, безволию и власти общих мест, часто скорее всех других опасностей истребляющей в человеке лучшие качества.
< … >
Так, «посреди России», живет и думает сам этот хороший мастер, и вглядывается, вглядывается в лицо маленького мальчика, который еще не слышит и не понимает грозы под охранительной рукой старого человека и так нуждается в мужественно-уверенной защите и ответственной человеческой мысли, какая из холста в холст, от портрета к портрету и от картины к картине растет в зрелом и обдуманном творчестве народного художника РСФСР Евгения Николаевича Широкова.
***
< … >
Начальная, и теперь понятно, сколь необходимая Широкову, заводская каслинская школа, давшая почувствовать плоть и свет живой поверхности металла, неразрывное соединение ремесла и духа, тайну соприкосновения воздуха и материи, света и плоскости, их постоянное объятье и оглядку друг на друга, показавшая, что небесная красота выходит из усилия работающей руки, могла лучше всего развиться в рабочем же Свердловске, чтобы только потом приготовиться к единственно необходимому, неизбежному при его устройстве дара Петербургу. Там, в движении гранитов и свете Невы, в шествии набе- режных, в диалоге любящего Бога и дерзкого человека, послушания и воли, в зримом материальном движении идеи, создавшей этот город и неизбежно именно его сделавшей колыбелью святой по порыву и страшной по плодам революции, художник вернее всего должен был почувствовать волю и власть Мысли, которой он с той поры будет служить, не отступая.
…Душа Широкова искала не лица только, но лика, мысли, умного сродства, искала собеседника, чтобы работа была диалогом, который потом неизбежно скажется и на зрителе, втянутом в напряженное столкновение модели и художника. Незаметно выросла и возвысила голос своя мысль и потребовала исхода. И теперь довольно взглянуть на дивные, чудесно высокие портреты Б. Назаровского и Д. Кабалевского, чтобы понять, что отныне он будет искать модели того же напряжения, той же духовной собранности и мировоззренческой полноты, той готовности, с которой в Библейские времена человек отвечал на Господень призыв, оборачиваясь по первому зову: «Вот я, Господи!»
Сухие колоритом, они сразу сменили цвет, чтобы он своевольной силой не отвлекал внимания, не расслаблял зрения, не вмешивался эстетическим гедонизмом в столкновение воль и напряжение мысли, подчеркнутое мощной тетивой композиции обоих портретов. Они почти сковывают зрителя напряженной мыслью, так что он скоро с недоумением замечает усталость позвоночника, стеснение сердца и желание расправить плечи и вдохнуть посвободнее. Они странно сродны – прямящаяся, донкихотова, воинская, какая-то металлическая вороненая сталь Назаровского при открытой ясности и чистоте взгляда и легкая кузнечикова крылатость и неудержимость Кабалевского. Это молчание и речь одной силы, свет и тень одного пламени.
С этими портретами в советскую живопись явился мастер, которого теперь будут ждать, высматривать, вписывать в высокий ряд прекрасных современников – П. Оссов- ского, Г. Коржева, Е. Моисеенко, И. Обросова, не забывая и великих предшественников – П. Корина, А. Самохвалова, А. Дейнеки, Г. Ряжского.
Теперь легко было догадаться о тайне классики – она в том, что герои как будто раздвигают время в обе стороны, уходя одинаково вперед и назад, соединяя сегодня и всегда, приручая вечность, которая, оказывается, ходит в обыденных одеждах. Оказывается, хороший портрет «сам собою» входит в человечество предшественников, становясь собеседником героев Сурикова и Крамского, Пе- рова и Репина, Кранаха и Рубенса, Рембрандта и Тициана, Гойи и Веласкеса. А «договорившись» между собою, они нас одаривают своей простой тайной, что ни времени, ни границ нет, что мы все дети Божьи и каждый из нас живет всегда.
Зоркий взгляд увидит в этих портретах, как и в портретах Е. Гудина, В. Астафьева, Е. Капеляна, А. Миронова, И. Смоктуновского, А. Каплера, что затишье домашней истории обманчиво, что устойчивость, успокоенность времени ложна, что мысль, таящаяся в этих сосредоточенных, как будто углубленных в одних себя лицах, неизбежно расшатает и уронит это «ожиревшее» время. Ведь его и правда роняют не диссиденты и революционеры – они только электрические разряды не в них накопившейся грозы, разрыв давно выговорившегося в высоких портретах молчания. Но власть ходит на выставки воевать с горделивым авангардом, с игрой цвета и линии, не подозревая, что опасность ждет ее в «благополучных» картинах поощряемых художников, что там, в опущенных глазах Т. Коваленко, В. Астафьева, Ю. Друниной и самого художника, в автопортрете за натяжкой холста для будущей работы, зреет приговор, утверждается старинная мысль о гибельности всякой революции перед правдой спокойно шествующей вечности.
Е. Капеляна, А. Миронова, И. Смоктуновского, А. Каплера, что затишье домашней истории обманчиво, что устойчивость, успокоенность времени ложна, что мысль, таящаяся в этих сосредоточенных, как будто углубленных в одних себя лицах, неизбежно расшатает и уронит это «ожиревшее» время. Ведь его и правда роняют не диссиденты и революционеры – они только электрические разряды не в них накопившейся грозы, разрыв давно выговорившегося в высоких портретах молчания. Но власть ходит на выставки воевать с горделивым авангардом, с игрой цвета и линии, не подозревая, что опасность ждет ее в «благополучных» картинах поощряемых художников, что там, в опущенных глазах Т. Коваленко, В. Астафьева, Ю. Друниной и самого художника, в автопортрете за натяжкой холста для будущей работы, зреет приговор, утверждается старинная мысль о гибельности всякой революции перед правдой спокойно шествующей вечности.
Отныне он был ненасытен в портретах и не уставал дивиться, что как жизнь ни угрожает человеческому лицу, а человек все побеждает, все собирает прекрасное, кото- рое так кратковременно, и удерживает его и множит в мире светом противящегося злу лица. Но была тут и сторона тревожная, как во всяком живом явлении. Постепенно портреты отлучили его от улицы, замкнули в мастерской, и нам уже порой не хватало в холстах воздуха и света, живого солнца, естественной тени, которые дают дневной слепящий зной, молодое утро, отяжелевший закат.
А тут все светил белый свет сосредоточенного вглядывания, настойчивых вопросов: ну что там за пределами добровольного заточения, на стенах улиц и театров, страниц и арен? И постепенно весть «с воли» делалась все сумеречней, и, кажется, герои сами со смущением, словно впервые, видели в портретах глубину общей усталости и беспокойства, о которых в суете дней некогда было подумать.
…Я приезжал в Пермь раз в два-три года и по очередному портрету на мольберте или прекрасному, часто с отсветом ночи, натюрморту видел, что время медлительнее, чем притворяется, и может обмануть не всех. «Перестройка» не осветила лиц героев художника, а только раскрыла мысль прежних портретов, объяснила их натянутую тишину, их горячее безмолвие, узлы рук и поникнутость плеч. Теперь было видно, что там совершалась драма высокого сосредоточенного одиночества, лучшее свидетельство переломного времени, в котором внешне все происходило как будто благопристойно и свободно, но внутри которого изгнанный Бог ставил человека перед ужасом оставленности и безответного вопроса.
…Широков до замкнутости болезненно пережил со страной в большинстве стыдные последние годы, не знающие героев, не оставившие художественного отражения ни в литературе, ни в кино, ни в живописи, что есть первый знак внутренней неправедности пути хотя бы и к праведной цели.
На первом обезнадеживающем взлете помолодевшей на мгновение души он еще написал тот светлый «алтарь» Духовно-исторического центра, с которого смотрят на нас великие лики России, но, уже принявшись за нижний ряд нынешнего столетия, смущенно сбился (никак было не найти общезначимые для этого столетия фигуры, ибо многие приходят из забвения и ссылки только сейчас, и их надо еще согласить с гонителями, не предав общей правды), а потом как будто и вовсе смолк.
Он еще привычно пересекал двор от дома до мастерской (и в зимние месяцы это был весь его уличный путь за день), чтобы до глубокой ночи оставаться там в молчании, общении со старым телевизором, заменившим кипевшую вокруг неопрятную, сорвавшуюся с резьбы жизнь, и человеческое лицо впервые как будто закрылось и перестало спасать его. Были еще портреты, были фрески о Беринге и молодом Урале, были картины, было желание написать вместе уже необратимо расходившихся Астафьева – Белова – Распутина (даже и какие-то шаги для этого предпринимались, чертились в письмах варианты композиции), но уже мутилась система координат, расплывались ценности, больше болело сердце и словно темнилось зрение, и все чаще холст натягивался для цветов, которые одни врачевали душу и не могли изменить.
И тогда пришла смена. Явились ученики, его счастливый курс, который он теперь будет звать своими лучшими холстами, своими благословенными, оправдывающими перед Богом и людьми произведениями.
< … >
Сегодня у Евгения Николаевича новый курс. Русская Ника летит и летит. И, значит, искусство и впрямь бессмертно, как бы ни стыдились мы сегодня возвышенных слов, которые есть только зеркало возвышенных чувств, вопреки хаосу и злу действительности все живых в русском сердце!
История русского искусства уже немыслима без вклада Евгения Николаевича Широкова, где каждое отдельное слово, может быть, и негромко, но где все вместе – речь, в которой ничего неопределенного и расплывчатого, где все неотменимо ЕСТЬ.
В. Курбатов